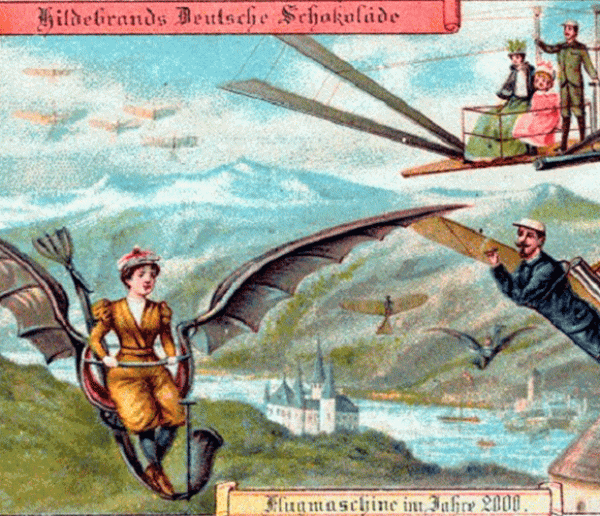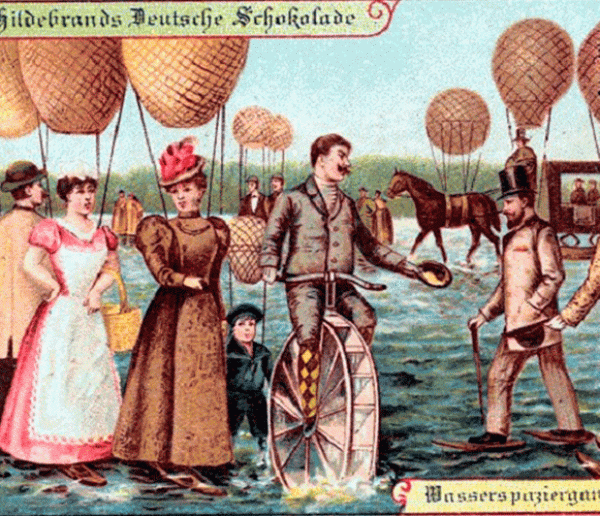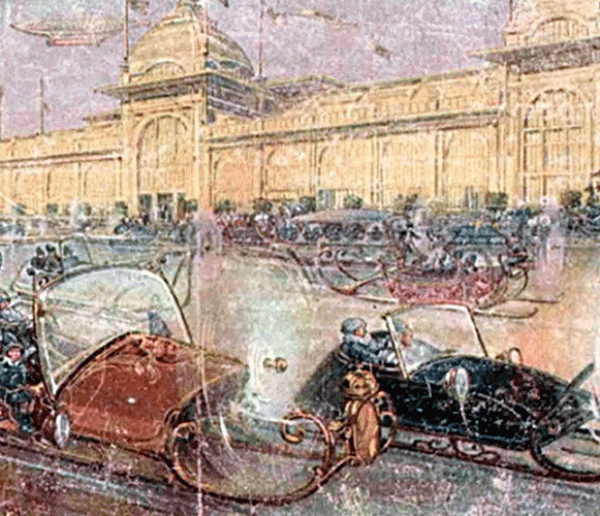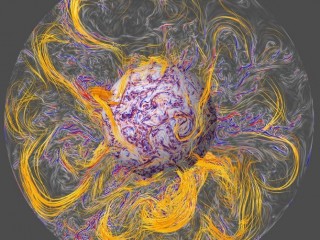Редакция портала «Центропресс» с помощью опытного эксперта проведет экскурсию вглубь веков и расскажет вам об утопиях и антиутопиях. Эта тема важна для понимания истории, философии, художественной литературы и кинематографа. Самая известная антиутопия – это, конечно, «1984» Оруэлла, произведение, которое многие цитируют и знают. Однако история вопроса гораздо глубже и шире.
У нас в гостях философ, исследователь общественных коммуникаций, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Петрович Сегал, который поможет разобраться в этой непростой теме.
«Центропресс»: Когда и как возникли понятия «утопии» и «антиутопии» в философии и литературе?
Александр Сегал: Эти термины используют и в гуманитарных науках, и в публицистике, и в обыденной жизни. И при этом везде имеют в виду разное. Поэтому начнем с момента появления слова «утопия», который нам доподлинно известен.
Термин появился по историческим меркам недавно – и притом гораздо позже тех явлений, которые им обозначают. В начале XVI века, а конкретно в 1516-м году, вышла в свет книга с очень витиеватым названием, я его сейчас зачитаю, потому что запомнить его невозможно: «Весьма полезная, а также и занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия, мужа известнейшего и красноречивейшего Томаса Мора, гражданина и шерифа славного города Лондона». Вы представляете, сейчас бы в газетах такие заголовки были?

«Центропресс»: То есть, автор уже тогда понимал приемы маркетинга? Сам себя не похвалишь – никто не похвалит.
Александр Сегал: Вы знаете, мне кажется, что приемы маркетинга – это жалкая пародия на тогдашние приемы. А в Средневековье еще более заковыристые были штучки. Просто маркетологи это дело позаимствовали без указания источника (это шутка, конечно, но…)
Что здесь интересно? Во-первых, само название «утопия», во-вторых – то, что это остров.
Название весьма неоднозначно и имеет два смысла. Томас Мор состоял в переписке с Эразмом Роттердамским, одним из величайших мыслителей того времени. И незадолго до выхода книги он писал о ней Эразму, при этом используя в качестве названия острова в заглавии латинское слово. Тогда латынь еще была языком науки, по средневековой традиции, и слово это звучало как «Нусквама» (Nusquama). Как это переводится? Знаете, у «Битлз» есть песня про «Nowhere Man», который живет в nowhere land, – так вот это примерно то же самое. То есть, как бы это сказать, «Никудандия», как-то в этом духе, «несуществующая страна». Это от латинского Nusquam – «нигде», «ни для чего», «ниоткуда» и так далее. Так что по латыни эта книга называлась однозначно в смысле отрицания локации.
Но затем Томас Мор назвал свою вымышленную страну на греческий манер, тогда латынь и греческий еще рядышком шли. А вот на греческом языке это по-другому звучит, неоднозначно. Дело в том, что, с одной стороны, частица «у», когда двумя буквами обозначается, – это отрицательная частица, которая отвергает факт, но не отвергает, кстати, его возможности, то есть то, чего пока что нет в физическом мире.
Корень «топос» обозначает место (мы знаем термин «топология», используем топографические карты). Если соединить такое «оу» и понятие «место», получится «нечто без места». Но ряд исследователей, в частности, Эдуард Баталов, утверждают, что здесь игра слов. Баталов больше на второй вариант опирается, который по-гречески пишется «эутопия», где «эу» – это «благо», а «топос» – «место». То есть получается то ли «место, которого нет», то ли «благое место». Тут еще есть и историческая отсылка. Помните, в нашем прошлом разговоре мы говорили об «островах блаженных»?
Получается, что Утопия – это блаженное место, остров блаженных. С одной стороны, это страна, которой нет, а с другой стороны, это страна блаженства. Но поскольку на латыни таких тонкостей как разница между «оутопия» и «эутопия» нет, имеет место общее слово «утопия».
Если продолжить про тогдашний «маркетинг» говорить, то эта книга стала бестселлером. Хотя в те времена литература, не будучи массовой, несколько иным образом распространялась. И термин «утопия» мгновенно завоевал Европу. В силу своей популярности он стал применяться «задним числом» как к сочинениям античных и средневековых авторов, так и к работам авторов наступившего Возрождения, Нового, а затем и Новейшего времени. То есть, его стали трактовать расширительно. В результате возник тот разнобой, который мы имеем сейчас.
С одной стороны, вроде, утопия – это «то, чего нет». С другой стороны, утопия – это некий «идеальный план». С третьей стороны, это нечто неосуществимое. С четвертой стороны, это может быть какая-то конкретная программа.
Немного забегая вперед, скажу, что «утопия» как литературный жанр или как способ описания некоего идеального состояния общества значительно отличается от других способов описания – в первую очередь детализацией. В этом её существенная особенность.
«Центропресс»: В этой связи можно ли сказать, что жанр утопии породил жанр фантастики как литературного направления?
Александр Сегал: На сегодняшний день жанр фантастики и утопические тексты практически слились. Сейчас любая фантастика имеет элементы утопии, любая утопия имеет элементы фантастики. Существует несколько литературных стилей, в каждом из которых преобладает та или иная функция. Например, разговорный стиль – у него функция общения. Есть научный стиль и стиль официальный – это функции сообщения. И есть стили публицистический и художественный, у которых главная функция – воздействие. Так вот, утопия всегда колебалась между функцией сообщения и функцией воздействия. Что, собственно говоря, хотел Томас Мор? Он хотел сообщить, каково, на его взгляд, идеальное общество.

Ведь в любой фантастике речь здесь идет не только о технологии – и не столько о ней. На данный момент любое литературное творчество является социальным, и фантастика в том числе.
Вот вы будете описывать XXVIII-й век. Вы же с неизбежностью должны сказать, как герои между собой взаимодействуют. Например, летите на каком-нибудь крейсере «Галактика», там существует командор. Во-первых, если на крейсере есть командор, если это крейсер, то, соответственно, он входит в состав флота. Во-вторых, если командор или командир экипажа подчиняется какому-то централизованному командованию, то цивилизация, к которой он относится, а) иерархична и б) ведет войны, поскольку, крейсер – это корабль военно-морского (военно-космического) флота. Если так, то существует, как минимум, две враждебные цивилизации или враждебные части одной цивилизации. Если так, то, скорее всего, за что они могут воевать? Вероятно, за какие-то территории и/или ресурсы. То есть, скорее всего, это общество построено по принципу близкому к современному капитализму. Мы с неизбежностью уходим в некую социальность.
Социальное содержание – это такой бульон, в котором варится вся техническая начинка. Не может быть «просто» техническая начинка. Общество, для того чтобы стать технически высокоразвитым, должно достигнуть определенного уровня социальной координации. Именно поэтому сегодняшняя, современная фантастика сливается с утопией.
Например, Чернышевский в снах Веры Павловны описывает в основном социальные взаимоотношения. Хотя и техническое оснащение общества будущего тоже упоминает, например, здания из алюминия. Он описывает, как они были построены, как была благоустроена пустыня. Представьте, как это воспринималось современниками: ведь во времена Чернышевского алюминий был дороже золота! Дмитрию Ивановичу Менделееву, насколько я помню, вручили медаль из алюминия за какие-то достижения, и это была не издевка, как бы нам показалось сейчас, а действительно ценный подарок. Так что дело не только в практических свойствах этого металла, а в том, что общество ради блага своих членов готово на любые затраты либо ставит во главу угла не стоимость, а потребительные свойства материала.
Поэтому в данном произведении техническая сторона используется как средство для описания социальной.
Если мы берем утопию и опрокидываем ее в прошлое по отношению к тому моменту, когда она возникла, к 1516 году, мы, например, возвращаемся к теме Золотого века. То есть, на самом деле, о чем здесь говорит утопия? Тоже о том, как должно выглядеть идеальное государство и идеальное общество, но всё зависит от тогдашнего понимания времени. Золотой век, если точнее, Золотой род – тоже ведь описание некого идеального общества, просто в рамках циклического понимания времени. В такой парадигме существуют Острова блаженных, как у Гомера. И Квинт Серторий поехал их искать потому, что реально считал: они где-то существуют. Дело в том, что для людей античной и средневековой эпохи проще было представить, что они уже где-то есть, а не должны появиться.
Идеальное государство Платона – это тоже утопия. Он рассказывал о том, что есть остров Атлантида, и там существует государство, которое, в его представлении, построено идеальным образом. И вот какая интересная штука происходит: все кинулись искать этот остров, не понимая, что имел ввиду автор.
Почему идеальное государство на острове? Потому что он, во-первых, окружен со всех сторон водой и труднодоступен. Во-вторых, его очень легко этой водой накрыть, вдруг скажут: «Где остров?» – «Его больше нет, утоп».
Современники Платона находились в рамках пока еще циклического представления о мире. В такой картине мира как бы всё сосуществует, поскольку начало и конец времен рядом, цикл замкнут и всё должно уже быть здесь и сейчас. Человека того времени трудно отправить в будущее. Он еще только начинает мыслить категориями будущего.
Когда я говорю: «Вот так должно быть», они говорят: «Слушай, вот я знаю, что я посеял пшеницу, она вырастет, у меня будет хлеб. В следующем году снова посев, пшеница вырастет, будет хлеб. Это понятно. А вот если я посеял непонятно что и не знаю, что у меня вырастет, это неправильно. Я живу в цикле». Так мыслили люди того времени.
Помните легенду об Осирисе? Это годовой цикл. Существует жизненный цикл. И люди древности в рамках жизненного цикла мыслят, поэтому Острова блаженных могут быть только в двух местах: либо где-то на земле, либо в загробном мире. Поэтому стоит попробовать их поискать, согласно той логике.
«Центропресс»: Александр Петрович, а почему человеку древности, да и Средних веков, было удобнее искать «благое место» в географическом измерении. Это связано именно с циклическим представлением о времени?
Александр Сегал: Во-первых, конечно, с тем, что человек жил в циклическом времени. Во-вторых, любое предсказание бывает двух видов. Я могу предсказать возникновение нового или открытие того, что уже существует. В обыденном сознании даже сейчас это путается.
Даже сейчас современный человек считает (и на этом строится огромное количество современной фантастики), что некое научное открытие уже где-то лежит. Возьмем, к примеру, представление о ноосфере. Что такое ноосфера? Это такая «оболочка» вокруг Земли, в которой все эти открытия якобы болтаются. Просто какой-то человек напрягся, и ему прямо в голову «упало» какое-то открытие.
Так и сегодня мыслят очень многие. А чего тогда хотеть от тех, кто жил во времена «детства человечества»?! Естественно, у них всё уже существует, просто надо понять, где лежит, и как достать. Для человека с таким образом мышления все предстает в одном виде: не было – появилось. Поэтому, возвращаясь к Утопии, гораздо проще рассказать, что есть такая страна.
Помните старый фильм «Буратино», который был снят еще до Великой Отечественной войны, в 1939 году? Там есть песня такая: «Далёко-далёко за морем стоит золотая стена, в стене той заветная дверца, за нею большая страна». Это понятнее, потому что мышление по месту, «топосу», всегда интереснее, чем мышление по «хроносу», то есть, по времени. Это даже просто удобнее для человеческой психики.
«Центропресс»: А как со временем менялось представление о социальном идеале и его противоположности? Как на это влияла окружающая действительность?
Александр Сегал: Самая простая форма представления идеала – это отрицание того, что есть: «Так жить нельзя». А как будем жить? «Мы будем жить теперь по-новому». А как по-новому? Ну как… не по-старому. Это самый простой путь и первый шаг к любому социальному проекту.
На самом деле, утопия – это процесс становления социального проектирования, целеполагания. Но для проекта нужен субъект, тот, кто проектирует. А человек на протяжении большей части своей истории еще не субъектен.
Для римлянина начала нашей эры, когда люди уже оторвались от почвы, уже нормально думать о том, что можно сбежать куда-то, уехать. Это тоже форма отрицания. Я отрицаю место, где я живу, и двигаюсь туда, где хорошо. Но в этой ситуации возникает интересная штука: я определяю новое, идеальное общество через старое, неидеальное, хоть и отрицая его. Есть такое понятие «отрицательная определенность». Получается, что мое новое общество несет на себе «родимые пятна» старого общества.
Во II веке до нашей эры жил такой Аристоник Пергамский. Он был незаконорожденным братом царя и конкурировал с ним за власть. Аристоник создал Гелиополис (в переводе «Город солнца», что интересно – такая отсылка через века к Кампанелле) и освободил рабов, чтобы они поддержали его притязания на трон. Но вы считаете, что там было не рабовладельческое государство? Вполне рабовладельческое! Просто рабы, освободившись, получили возможность стать рабовладельцами. То же самое, кстати сказать, и со Спартаком было. Просто в силу структуры тогдашней экономики другое государство, кроме как рабовладельческого, там возникнуть не могло. Просто рабами стали бы другие.
Люди мыслили в рамках социальной концепции своего времени и не могли мыслить по-другому, потому что иначе цивилизации бы этой не существовало.
Чем отличаются во многих случаях и фантастика, и утопия от социального проектирования? Тем, что они рисуют картину идеального общества, но при это не рисуют способ, процесс его создания. Очень часто даже не рисуют способ функционирования. Почему общество таким образом функционирует? На этот вопрос ответ не дается.
Рабовладельческое общество не могло другим образом функционировать, потому что основной способ производства требовал именно таких отношений.
Однако уже в античности появилось представления, которые в эпоху Просвещения были подняты на щит. Во-первых, жанр географического романа, во-вторых, буколики: такие картины первоначального идеального состояния общества.
Благодаря этому утопия переползла из географических координат во временные, только при этом она уползла в прошлое. В эпоху Просвещения стали говорить «Был замечательный "бон саваж", добрый дикарь. С соплеменниками они разводили овец, играли на флейтах и вообще жили замечательно. А потом напали враги, пришлось объединяться, создавать государство и ради безопасности отказываться от ряда свобод». Это утопия, только она перемещена во времени в прошлое.
У каждой эпохи – своя утопия: социальный идеал, конечно, менялся. Очевидно, что у Кампанеллы город Солнца выглядит по-другому, чем идеальное государство Платона. Уинстэнли основал колонию диггеров для выражения интересов английских беднейших слоев. Этьен Кабэ зовет французов за океан, чтобы создать Икарию, некий земной рай. Оуэн тоже создает общины. То есть, начиная с XVII века предпринимаются попытки реализовать утопию.
«Центропресс»: В этой связи возникает вопрос, какие примеры реализации утопий на практике можно привести и к чему это привело на самом деле?
Александр Сегал: Во-первых, сразу надо сделать оговорку про небезызвестный «принцип партийности», из-за которого всякого рода социальные явления невозможно оценить объективно, потому что оценивающий сам занимает определенную позицию. То, что для одних было идеалом, другим казалось страшным сном. В качестве примера я могу привести известную непрямую дискуссию между Достоевским и Чернышевским.
В романе «Что делать?» критика Чернышевским существующего общества представлена в виде снов Веры Павловны. Вполне элегантный способ обхода цензурных препон: «Что возьмешь со спящего человека? Он же что "показали" – то и смотрит». Достоевский тоже очень любил использовать этот прием. Но при этом он очень жестко глумился над снами Веры Павловны и вообще над романом «Что делать?» В «Записках из подполья» действует персонаж, который называет себя подпольщиком, бывший государственный служащий, который зло и желчно описывает жизнь в Петербурге, свое собственное положение, взаимоотношения с женщинами, и, в частности, сильно издевается над Чернышевским.
Но почему издевается? В романе Чернышевского один из самых известных моментов – это четвертый сон Веры Павловны. В этом сне у него как раз показано идеальное общество. В этом сне Вера Павловна ходит с некой царицей, которая показывает историю развития человечества через призму отношения к женщинам. В этом же сне достаточно подробно описывается, какой будет Россия, когда победят те принципы, которые Чернышевский продвигает.
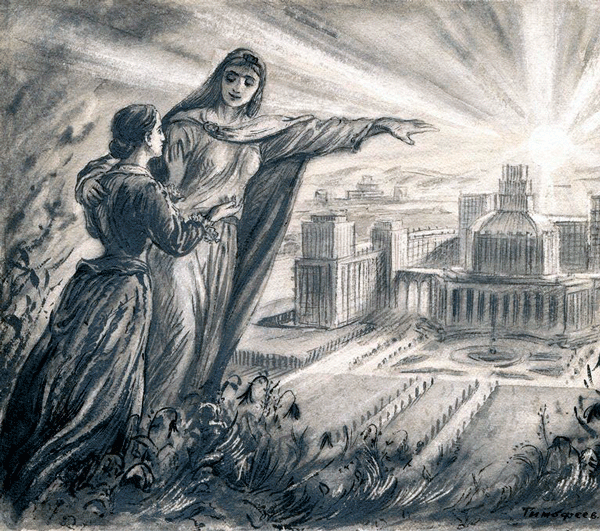
Вот например: «Здание громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах, - или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля — это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы, — как же они растут на открытом воздухе? О, да это колонны вокруг них, это они открыты на лето».
Он описывает некий город-оранжерею, в котором всё сделано из необычного металла. «Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? Серебро? Платина? Да и мебель почти вся такая же, — мебель из дерева тут лишь каприз, она только для разнообразия, но из чего ж вся остальная мебель, потолки и полы? «Попробуй подвинуть это кресло», — говорит старшая царица. Эта металлическая мебель легче нашей ореховой. Но что ж это за металл?». Короче говоря, это уже упоминавшийся алюминий. Но заметьте, насколько длинно и детально всё описывается, насколько задрапирована социальная составляющая – цензура-то не дремлет!
Вот эта попытка детального описания технической стороны вопроса – отличительная черта всей футуристики вплоть до Второй Мировой войны. Этим занимались не только социальные мыслители, но и художники, и поэты. Посмотрите открытки 1900 года, где рисуется жизнь 2000 года: дирижабли, «стёкот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолёт буеров… Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс!» Игорь Северянин. Тогда это было чрезвычайно модно. Была мода на металлические конструкции (самый яркий пример - Эйфелева башня) – это всё явления одного культурного порядка.
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что утопия – это такой целевой прогноз, который выстроен, естественно, на экстраполяции представлений человека о том, что для него хорошо. При этом очень часто не учитываются важные особенности существующих социальных реалий.
Что такое экстраполяция? Это учет современных условий, учет того, что есть – и протягивание их в будущее. Но всегда сложно выяснить, что мы должны сделать и от чего мы должны отказаться, чтобы получить желаемое. Утопия приобрела негативную коннотацию в силу того, что утописты говорят: «Мы хотим вот это, должно быть вот так». А как вы хотите этого добиться? «Ну, люди должны…» – и вот здесь возникает вопрос о том, как их убедить, что они должны.
Приведу стихотворение Беранже, оно расставляет очень важные акценты в данной теме.
Оловянных солдатиков строем
По шнурочку равняемся мы.
Чуть из ряда выходят умы:
«Смерть безумцам!» — мы яростно воем.
Поднимаем бессмысленный рев,
Мы преследуем их, убиваем —
И статуи потом воздвигаем,
Человечества славу прозрев.
Ждёт Идея, как чистая дева,
Кто возложит невесте венец.
«Прячься», — робко ей шепчет мудрец,
А глупцы уж трепещут от гнева.
Но безумец-жених к ней грядёт
По полуночи, духом свободный,
И союз их — свой плод первородный —
Человечеству счастье даёт.
Сен-Симон всё своё достоянье
Сокровенной мечте посвятил.
Стариком он поддержки просил,
Чтобы общества дряхлое зданье
На основах иных возвести, —
И угас, одинокий, забытый,
Сознавая, что путь, им открытый,
Человечество мог бы спасти.
«Подыми свою голову смело! —
Звал к народу Фурье. — Разделись
На фаланги и дружно трудись
В общем круге для общего дела.
Обновлённая вся, брачный пир
Отпирует земля с небесами, —
И та сила, что движет мирами,
Человечеству даст вечный мир».
Равноправность в общественном строе
Анфантен слабой женщине дал.
Нам смешон и его идеал.
Это были безумцы — все трое!
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет;
Нам безумец дал Новый завет —
Ибо этот безумец был богом.
Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло —
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь!
Многие идеи, из перечисленных выше, которые современники считали безумными, совершенно иначе воспринимаются в современном обществе. Ну а часто цитируемые строки про «сон золотой» вообще изначально имели совершенно другой, положительный смысл.
«Центропресс»: Так почему же на бытовом уровне прилагательное «утопичный» приобрело негативный оттенок, указывающий на то, что задуманное никогда не осуществится?
Александр Сегал: Наверно, вопрос в незрелости механизмов реализации самих благих намерений. Например, в России существовали общины, в которых утопические идеи часто были связаны с религиозными взглядами (старообрядческие, хлыстовские). Тот же самый Фурье, который оказал огромное влияние, например, на Прудона, известного анархиста и деятеля Первого Интернационала, верил в астрологию, в его построениях присутствовал мощный мистический момент. Можно вспомнить и меннонитские секты в Соединенных Штатах, и хасидов в их сюртуках начала XIX века – у них жизнь как бы замерла в той форме, которая считается «правильной» или «благой». Подобного рода вещи, конечно, отталкивают здравомыслящих людей от утопических идей, заставляя видеть в этом что-то маргинальное.
Можно вспомнить замечательную историю с хиппи. Они пытались реализовать свою идею непротивления злу, но, в конечном счете, хипповское движение выродилось в «секс, наркотики и рок-н-ролл». Связано это было с тем, что попытки реализации утопии на практике всё равно были интегрированы в существующее общество, которое они декларативно отрицали.
Например, вы создали коммуну или общину. Коммуна работает или в сельском хозяйстве, или как промышленное предприятие, там все равны, справедливость и всё такое прочее. Но члены коммуны свою продукцию выносят на рынок, иначе они не смогут существовать. А рынок – это явление внешнего враждебного, отрицаемого мира, капиталистического общества. Еще Маркс заметил., что капитализм интегрирует в себя пережитки всех предыдущих форм общества. При капитализме совершенно спокойно может существовать крестьянская община или хипповская коммуна. Но рынок диктует им, в конечном счете, тип поведения и рано или поздно «переваривает» их.
По поводу реализации я вам скажу еще одну странную вещь: «Утопия, которую реализовали на практике, это уже не утопия». Понимаете? Потому что будущее, которое наступило, это уже не будущее, а настоящее.
Итак, три основных положения критики. Утописты конструируют общество на основе абстрактной идеи и не учитывают средства и условия, которые позволили бы эту идею реализовать. Критикуя их, Маркс говорил, что мир должен родиться из старого общества в результате уже существующих процессов. Заметьте: не на обломках, а из него.
Второе. Утописты выводили образ будущего из идей природной сущности человека, природной справедливости, присущего человеку движения к равенству и свободе. То есть, утописты возвращались к идее о том, что всё уже существует, надо просто это найти и/или очистить.
А вот Маркс утверждал, что новое общество должно быть создано в результате определенного процесса. Не конечные цели и результаты, а именно движение к ним играет, пожалуй, определяющую роль. Но для утопии, напротив, характерна абсолютизация абстрактных принципов с требованием осуществить их здесь и сейчас. Технологии реализации своих принципов утописты чаще всего не рассматривали. При этом практически у всех авторов утопий присутствует тяга к подробному описанию будущего общества – это те «деревья, за которыми не видно леса».
Какие элементы конструкции будущего общества существуют сейчас? Это молодое поколение. Молодежь – единственный стопроцентный элемент будущего общества. Наши дети – это участники того общества, которое будет. Но фокус-то заключается в том, что пока дети растут, цели по построению этого общества закладывают нынешние взрослые. Вот здесь возникает некая поколенческая дискоммуникация. Недаром все современные футорологи, если они пытаются реалистично работать, с неизбежность уходят в тему работы с молодежью.
«Центропресс»: Вот так незаметно мы с вами подошли к современности… Какими произведениями литературы и кинематографа жанр утопии и антиутопии представлен в настоящее время? Как они характеризуют современное развитие общества?
Александр Сегал: В XXI веке само по себе отношение к утопии другое. На сегодняшний день слово «утопия» приобрело негативный смысл, как мы уже говорили. Сейчас оно употребляется в значении «то, что никогда не осуществится». Такое же превращение случилось со словом «миф», которое приобрело значение «ложь». Почему миф – ложь, если это глубочайший слой человеческой культуры? Но в обыденном понимании это так.
В силу этих изменений на сегодняшний день любая утопия рассматривается, скорее, как дистопия, то есть антиутопия. Произведений в этом жанре сейчас просто огромное количество.
Фантастика о хорошем будущем – утопия, о плохом – антиутопия. Антиутопий однозначно больше. Почему? Потому что люди продолжают ощущать свою неспособность изменить ситуацию, рассматривают ситуацию через тенденции, на которые нельзя повлиять, а тенденции всегда плохие.
Игорь Васильевич Бестужев-Лада в свое время заметил, что все прогнозы, построенные на трендах, то есть так называемые поисковые прогнозы, всегда чрезвычайно пессимистичны, поэтому на сегодняшний день общество не верит в хороший исход.
Даже красивые картинки будущего исключительно технократичны. Вот у нас будут роботы, люди работать не будут. «Вкалывают роботы – счастлив человек», как пелось в песне из фильма об Электронике. Вот мы полетим на Марс, у нас будет генетическая инженерия, человек будет бессмертен… И в этом пункте мы мгновенно приходим к ситуации, когда утопия превращается в антиутопию.
Хорошо, роботы будут вкалывать, а люди как и на что будут жить? Совершенно очевидно, что в рамках сегодняшнего общества, основанного на наемном, а не на свободном труде, на этот вопрос невозможно ответить, не затронув основ. Пытаются отвечать, но ответы не выдерживают никакой критики, начиная с подоходного налога на роботов, про который Билл Гейтс говорил. Это лишний раз показывает, что он совершенно не понимает, как экономика работает. То есть деньги он зарабатывать умеет, а вот откуда они берутся – не совсем понимает. Это называется денежный фетишизм.
Хорошо, люди станут бессмертными – где они будут жить, эти бессмертные люди? Тут можно вспомнить эпизод из путешествия Гулливера, который заезжал не только к лилипутам и великанам, он попал еще в несколько странных земель: страна Лапутия, страна разумных лошадей-гуигнгнмов, а еще было королевство Лаггнегг . Там время от времени рождались люди с родимым пятном на лбу – бессмертные, или струльдбруги –, и это считалось проклятием. Они до восьмидесяти лет жили как все нормальные, а потом их лишали гражданских прав и куда-то ссылали, потому что это были бессмертные старики, потерявшие память и бесполезные для общества.

Возникает вопрос, куда девать стариков, и куда вообще людей девать в ситуации всеобщего бессмертия? И тогда возникает оговорочка, что вообще-то бессмертия добьется, скорее всего, золотой миллиард, да и то не весь, а все остальные будут как-то иначе прозябать. Таким образом, мы приходим к той самой антиутопии, что описал в «Машине времени» Герберт Уэллс, и у нас будут свои элои и морлоки.
Антиутопий больше, потому что если мы продолжаем тренды, то они с неизбежностью упираются в ряд проблем, которые на сегодняшний день в рамках современной социальной реальности не решаемы.
Из всего перечня произведений, лично мне нравится сериал «Черное зеркало». Не потому, что там утопия или антиутопия, на сегодняшний день между ними провести границу сложно, а потому, что в каждой серии ставится та или иная конкретная проблема с очевидным социальным подтекстом.
Как только мы начинаем рисовать будущее, появляется сложность. Если мы будем рисовать хорошее будущее, то это будет рассмотрено нынешними власть имущими, то есть корпорациями, как покушение на статус-кво, потому что в рамках корпоративного капитализма хорошее для всех будущее нереализуемо. Если же будем рисовать пессимистические картины будущего, то те же самые власть имущие будут рассматривать это… тоже как покушение на статус-кво, потому что отсутствие приемлемой перспективы усугубляет социальную напряженность. Поэтому классическая утопия на сегодняшний день размылась и превратилась в художественное произведение, футуристику, где и утопия – плохо, и антиутопия – плохо. Утопия плохо, потому что она нереализуема, а антиутопия плохо, потому что имеет шансы воплотиться в жизнь.
Если ставить вопрос о будущем, то лучше заниматься прогностикой. А чем прогностика отличается от утопии? Тем, что это все-таки раздел исследовательской деятельности, в которой баланс цели и средств её достижения должен быть выверен.